 
А. Л. Буркин
|
15 мая 1995
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ
Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч.4. Кн.10. Мальчики.
|
|
А сколько впредь ещё родится
От книг твоих на свете зол!
(И. А. Крылов. "Сочинитель и Разбойник".)
|
I
Выбранный диалог Коли Красоткина и Алексея Карамазова имеет в романе Ф. М. Достоевского концептуальное значение: выполняет в нём функцию семиотизации распространённости революционно-народнической идеи индивидуалистического социализма. Распространённость этой идеи осмысляется в 10-й книге через её восприятие новым, подрастающим поколением, вырабатывающим личное отношение к собственной социокультурной детерминированности. Вместе с тем, семиотизируемая на идеологическом уровне эта мировоззренческая проблема переведена в иной пласт художественного повествования - в интекст, расширяющий художественный диалог до общероссийской этико-философской полемики.
По всей видимости, Коля Красоткин выведен автором в качестве персонажного представителя того "особенного типа русских мальчиков, которые, отложив все свои текущие дела и заботы, спорят о "мировых" вопросах, без основательного решения которых, как они сознают, не может быть решён ни один, даже самый частный и мелкий вопрос их личной жизни, не говоря уже об остальных более широких вопросах жизни России и человечества".
Определённая точка зрения на эти "мировые" вопросы, риторические приёмы их воспроизведения и критики, а также некоторые биографические сведения (приводимые в главе "Коля Красоткин") выявляют в Красоткине контаминацию образов нарождающейся личности революционера-народника, в то время как генеративная основа этих образов выявляется через приводимые Красоткиным реминисценции, аллюзии и цитаты.
"Я имел в виду вышколить характер, выровнять, создать человека … ну, и там … вы, разумеется, меня с полслова понимаете".
Читатель 80-х годов XIX века, вероятно, понимал Красоткина "с полслова", ибо общий семантический универсум читателя и писателя той эпохи более менее совпадал. Однако если семиотизируемая в романе метафизика 60-80-х годов имела свой известный реальный коррелят, то полтора столетия спустя интекст Достоевского выступает скорее как знак этого семантического универсума. Значение интекста обычно дешифруется постраничным комментарием и примечаниями, представляющими, впрочем, скорее дейксис на прототекст, требующий дополнительной актуализации. Содержательно-концептуальная информация, заключённая в интексте, таким образом, ограничивается тезаурусом читателя, всё более отдаляемого от семантического универсума эпохи создания "Братьев Карамазовых". То есть, эпистемологический код, всякий раз затрагиваемый Красоткиным, оказывается редуцированным. К "шуму времени" добавляется чисто эстетическое ограничение. Дело в том, что излагаемое 14-летним подростком, стремящимся проявить свою значительность, это "чужое слово" приобретает функцию поэтического клише и способно восприниматься как "невольная пародия на либерально-демократическую печать 1860-1870-х годов".
Однако этот риторический приём ("устами младенца" или "детский лепет") имеет в романе прагматическую функцию: спонтанный подбор Красоткиным необходимых аргументов выявляет генеративные тексты революционно-народнического направления и, тем самым, определяет "прототекстуальных участников" романной полемики:
"О, все мы эгоисты, Карамазов!" - Ср.: Чернышевский Н. Г. "Что делать?"
"…да и вообще всемирную историю не весьма уважаю ~ Изучение ряда глупостей человеческих, и только". - Ср.: Грановский Т. Н. - Герцену. "Письмо от 1849г."//Полярная звезда на 1859г. Кн.5, с.218.
"Я уважаю одну лишь математику и
естественные". - Ср.: Герцен А. И. Былое и думы//Полярная звезда на 1856г. Кн.2, с.134.
"Я слышал, вы мистик и были в монастыре. ~ Прикосновение к действительности вас излечит". - Ср.: Белинский В. Г. Письмо к Гоголю (1847). Достоевский, зачитавший это письмо в кружке Петрашевского, впоследствии не раз полемизировал с идеями критика.
"Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист…" -
Ср.: Герцен А. И. Письмо к императору Александру II // Полярная звезда на 1855г. Кн.1, с.11-14.
Разумеется, Достоевский вовсе не имеет намерения сделать Колю Красоткина "типичным представителем" революционно-народнической идеи. Следует лишь говорить о направлении развития его персонажа в соответствии с определённым кругом усваиваемых им идей, что позволяет сконцентрировать полемику на принципиально важном вопросе рецепции этих идей. Воплощённый в такой форме этот вопрос одновременно возвращает к структурно тождественному диалогу Алексея и Ивана Карамазовых (Кн.5. Pro и contra) и, устанавливая соответствующую методологическую точку зрения, дополнительно раскрывает гносеологические корни Ивана Карамазова. "Не стану я, разумеется, перебирать на этот счёт все современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез; потому что, что там гипотеза, то у русского мальчика тотчас же аксиома, и не только у мальчиков, но, пожалуй, и у иных профессоров, потому что и профессора русские весьма часто у нас теперь те же русские мальчики".
II
Диалог начинается с коммуникативной провокации со стороны
Красоткина:
"А всё-таки Карамазов для меня загадка. ~ Притом я составил о нём некоторое мнение, которое надо ещё проверить и разъяснить".
Эпатирующий Карамазова "своими" "аксиомами" в расчёте на привычное преклонение Коля Красоткин (глава "Раннее развитие") смещает диалог в сторону вербального состязания за некоторые мировоззренческие положения Западничества. Между тем, не принимая такого направления диалога, Карамазов занимает позицию внимательного наблюдателя, способствующую полному раскрытию "провокатора". Красоткин намеревается опробовать "свои" философские представления и, как персонаж, наделённый сильной саморефлексией, устремляет диалог в сторону утверждения этих "аксиом" как необходимых личностных ценностей.
Сам же процесс формирования этих "своих" ценностных предпочтений имеет у Достоевского символическое значение.
|
"После отца остался шкап, в котором хранилось несколько книг; Коля любил читать и про себя уже прочёл некоторые из них. Мать этим не смущалась и только дивилась иногда, как это мальчик, вместо того, чтоб идти играть, простаивает у шкапа по целым часам над какою-нибудь книжкой. И таким образом Коля прочёл кое-что, чего бы ему нельзя ещё было давать читать в его возрасте".
|
"У отца моего вместе с Сенатором была довольно большая библиотека, составленная из французских книг прошлого столетия. Книги валялись грудами в сырой, нежилой комнате нижнего этажа в доме Сенатора. Ключ был у Кало, мне было позволено рыться в этих литературных закромах, сколько я хотел, и я читал себе да читал. Отец мой видел в этом двойную пользу: во-первых, что я скорее выучусь по-французски, а сверх того, что я занят, то есть сижу смирно и притом у себя в комнате. К тому же я не все книги показывал или клал у себя на столе, - иные прятались в шифоньер".
|
Коля Красоткин не обладал такой культурной роскошью, как целая комната с грудами книг, зато он не прятал "избранное" в шифоньер, а аккуратно доставал оттуда. Красоткин, хотя и имел книг всего "несколько", зато они содержали в себе в отфильтрованном, трансформированном и дополненном самим Герценым виде те же "французские" прототексты, изложенные с революционной доминантой.
Десятилетие спустя Оскар Уайльд так напишет в 11-й главе своего романа:
"Все они таили в себе какую-то страшную притягательную силу. Они снились Дориану по ночам, тревожили его воображение днём. Эпоха Возрождения знала необычайные способы отравления: отравляли с помощью шлема или зажжённого факела, вышитой перчатки или драгоценного веера, раззолоченных мускусных шариков и янтарного ожерелья. А Дориан Грей был отравлен книгой. И в иные минуты Зло было для него лишь одним из средств осуществления того, что он считал Красотой жизни".
В репликах Красоткина Карамазов обнаруживает интенциональную направленность к "чужим ценностям". Такой отказ Красоткина от собственного мышления (sacrificum intellectus) занимает Карамазова больше, чем сами эти "чужие ценности", которые предлагается оспорить. Предоставляя возможность выговориться об этих "ценностях", Карамазов "помогает" Красоткину объективировать его социокультурную детерминированность. Критическая осведомлённость Карамазова об этих "ценностях", с одной стороны, а также пересказ о происшествии с гусём, с другой, высвечивают перспективу личного развития Красоткина через следование этим "ценностям", зарождая по отношению к ним определённый скепсис. Наконец, осознание вины в страданиях другого человека ("Я хотел выдержать его на фербанте всего несколько дней..." ) - становится пределом, той пограничной ситуацией, за которой открывается возможность преодоления противоречия между социокультурной детерминированностью и личностной позицией.
Приводимые Красоткиным суждения символизируют, таким образом, литературно-философские тексты Западников (Чернышевский, Белинский, Герцен) и трансформируют их на полемический уровень.
III
В основе развернувшейся в середине XIX века полемики находилась амбивалентная борьба за волевую современную личность.
В очередной раз постулируя представление "О повреждении нравов в России", Герцен, следуя Белинскому, решительно восстаёт против (по-своему им понятой) "мировой гармонии". Не желая рассматривать настоящее как средство для будущего, Герцен утверждал настоящее как самоцель и требовал немедленных преобразований ради поколения современного, немедленной "борьбы свободного человека с освободителями человечества".
Такую позицию в романе занимает Иван Карамазов:
"Не для того же я страдал, чтобы собою, злодействами и страданиями моими унавозить какую-то будущую гармонию".
Гуманизм Достоевского также имеет амбивалентный характер, но совсем иного свойства. Любой человек имеет абсолютное значение. Однако, вместе с тем, Достоевский раскрывает предельные результаты гуманистического самоутверждения, которые именует человекобожием. Гуманизм, порождая ещё большие страдания, переходит в антигуманизм, в социальность Великого Инквизитора.
В диалоге Карамазова - Красоткина бросается в глаза следующая особенность в следовании друг за другом приводимых интекстов. За исключением аллюзии на роман Чернышевского "Что делать?" ("Я тоже, например, считаю, что бежать в Америку из отечества - низость, хуже низости - глупость. Зачем в Америку, кода и у нас можно много принести пользы для человечества?" ) рассуждения Красоткина коррелируют с журналами Огарёва и Герцена "Колокол" и "Полярная звезда". Так создаётся структурная целостность спонтанной цитации и, в то же время, аксиологическая амбивалентность мышления Красоткина: неосознанная полярность предпочтений в рамках одной идеологической системы. Наконец, в монологе Красоткина имеется интекст, выполняющий дейктическую функцию, то есть точная цитата, дополненная прямым указанием на источник. После фразы "Будешь помнить здание у цепного моста!" следует опасение Красоткина:
"А что если он узнает, что у меня в отцовском шкафу всего только и есть один этот нумер "Колокола", а больше я из этого ничего не читал?"
Дейксис на западническую идеологию сконцентрирован в конкретном указании на конкретный прототекст: журнал "Колокол" за 1866 год, №221. В этом "нумере", впрочем, напечатана только 2-я часть ("Из Москвы в Петербург") из цитируемого Красоткиным стихотворения "Послание". Отсылка не к "Полярной звезде", где было напечатано всё стихотворение, откуда, собственно, только и могла быть взята Красоткиным цитата, - может трактоваться "особенностью памяти Достоевского". Однако, исходя из постоянной интертекстуальной связи именно с "Полярной звездой", случайную неточность предположить трудно. Очевидно, здесь следует говорить об особом риторическом приёме: интертекстуальной синекдохе. Значение этого приёма в данном случае таково: анонсиативная функция мыслительного
восклицания Красоткина, выраженная в документально точном указании на прототекст, декларирует особый объект корреляции текстов, идеологический контрапункт.
IV
Итак, журнал "Колокол" за 1866 год, №221. Вторая часть стихотворения, "Из Москвы в Петербург", напечатана на последней странице в разделе "Смесь". Внутренние страницы отведены сочинению Прудона. На лицевой же странице помещено неординарное по культурно-историческому значению открытое письмо эмигранта к монарху: письмо Герцена к императору Александру II-му.
"Государь,
Было время, когда Вы читали "Колокол" - теперь Вы его не читаете. Которое время лучше, то или это, время ли освобождений и света или время заточений и тьмы - скажет Вам ваша совесть. Но читаете Вы нас или нет, этот лист Вы должны прочесть.
Вы кругом обмануты и нет честного человека, который смел бы Вам сказать правду. Возле Вас пытают, вопреки вашему приказанию, и Вы этого не знаете. Вас уверяют, что несчастный, стрелявший в Вас, был орудием огромного заговора, но ни большого, ни малого заговора вовсе не было; то, что они называют заговором - это возбуждённая мысль России, это развязанный язык её, это умственное движение, это ваша слава рядом с освобождением крестьян.
<…>
Вы не можете желать зла России за её любовь к Вам. Это неестественно. Станьте же во весь рост за неё, изнемогающую под тяжестью клеветы и испуганную тайным судилищем и явным произволом.
По всей вероятности это последнее письмо моё к Вам, Государь. Прочтите его. Одно бесконечное, мучительное горе о гибнущей юной, свежей силе под нечистыми ногами нечестивых стариков, поседелых во взятках и интригах, одна эта боль могла меня заставить ещё раз поднять голос.
Внимания, Государь, внимания к делу. Его имеет право требовать от Вас Россия.
Искандер".
Подчёркнутая здесь фраза о "тайном судилище", дабы исключить разночтения, переходит в пространную статью, следующую в этом номере вслед за Письмом к императору:
"Из
Петербурга.
Наконец-то письмо из Петербурга. Передаём главную
часть его: "Аресты самые безобразные, самые беспричинные продолжаются.
<…> Шпионов бездна здесь, много отправлено в Москву, в провинцию.
<…> Из лиц известных арестованы: Благосветлов, Зайцев, Курочкины, Слепцов, арестовано много девиц и женщин (нигилисток), <…>.
Отысканы ли следы какого-нибудь общества? - спросил один знакомый Муравьёва.
Общества нет никакого, но будет, если не истребить вредные задатки!"
Интересно рассуждение, подводящее итог "событиям в Петербурге":
"Несчастный народ, в котором могла зародиться и назреть такая среда, наглая и уродская, которая безнаказанно учит палачей, рукоплещет им и натравливает их!"
Такой обличительный пафос, морализирующее негодование в адрес собственного народа, как оказывается, порождены всероссийским возмущением по поводу покушения на жизнь императора 4 апреля 1866 года.
Впрочем, такую, несколько неадекватную реакцию Герцена правильнее можно объяснить скорбью о судьбе своих "братьев по крови", на борьбу которых с "Освободителем народа" сам народ взирал с ужасом.
Между тем, обнаружить эту скорбь значило бы выдать свою осведомлённость о реальном, а не о метафизическом заговоре, что противоречило бы всей иезуитской позиции Герцена.
В начале 1861 года при редакции журнала был создан Совет "Земля и Воля". С сентября 1863 года к Совету "Земля и Воля" примыкал Ишутинский кружок, организованный с целью подготовки крестьянской революции путём заговора интеллигентских групп. Каракозов, стрелявший в императора, входил в контролирующую группу "Ад" этого кружка.
В следующей статье этого же 221-го номера журнала "Колокол" Герцен пишет:
"До Каракозова, или как он там называется, дела им нет".
Можно ли предположить, что Герцен не знал ни о Каракозове, ни о деятельности Ишутинского кружка? Увы! Слова Герцена об отсутствии революционного заговора и о наличии заговора метафизического могут рассматриваться лишь как риторическое лицемерие, как стремление отвлечь от расследования социально-политической идеологии, возбуждающей терроризм, путём перекодирования её в свободное "умственное движение", и навязать расследование негуманного обращения с "юной, свежей силой, гибнущей под нечистыми ногами нечестивых стариков".
Правительство трезво расценило такую риторику, а "возбуждённая мысль" оказалась под самым пристальным её вниманием.
Уже в следующем, 222-м номере "Колокола" Герцен публикует "Письмо Государя к кн. П. П. Гагарину". В нём среди прочих указаний на создавшееся положение в России говорится:
"… признаю я своею обязанностью охранять русский народ от тех зародышей вредных злоучений, которые со временем могли бы поколебать общественное благоустройство, если бы развитию их не было поставлено преград. Событие, вызвавшее со всех концов России доходящие до меня заявления, вместе с тем послужило поводом к более ясному обнаружению тех путей, которыми проводились и распространялись эти пагубные лжеучения. <…> Таким образом, Провидению благоугодно было раскрыть перед глазами России, каких последствий надлежит ожидать от стремлений и умствований, посягающих на всё для неё искони священное, на религиозные верования, на основы семейной жизни, на право собственности, на покорность закону и на уважение к установленным властям. <…> Моё внимание уже обращено на воспитание юношества. Мною даны указания на тот конец, чтобы оно было направляемо в духе истин религии, уважения к правам собственности и соблюдения коренных начал общественного порядка, и чтобы в учебных заведениях всех ведомств не было допускаемо ни явное, ни тайное проповедование тех разрушительных понятий, которые одинаково враждебны всем условиям нравственного и материального благосостояния народа".
V
Теперь, думается, целесообразно перейти к эпизоду о раздавленном гусе (глава "У Илюшиной постельки"):
"А гуртовщик кричит: «Этаким манером их, гусей, сколько угодно передавить можно!» Ну, разумеется, свидетели. Мировой мигом кончил: за гуся отдать гуртовщику рубль, а гуся пусть парень берёт себе. А парень всё ревёт как баба: «Это не я, говорит, это он меня наустил», - да на меня и показывает. Я отвечаю с полным хладнокровием, что я отнюдь не учил, что я только выразил основную мысль и говорил лишь в проекте. Мировой Нефёдов усмехнулся, да и рассердился сейчас на себя за то, что усмехнулся: «Я вас, - говорит мне, - сейчас же вашему начальству аттестую, чтобы вы в такие проекты впредь не пускались, вместо того чтобы за книгами сидеть и уроки ваши учить». Начальству-то он меня не аттестовал, это шутки, но дело действительно разнеслось и достигло ушей начальства: уши-то ведь у нас длинные! Особенно поднялся классик Колбасников, да Дарданелов опять отстоял".
Сходным образом "говорил лишь в проекте" и Смердяков, предлагавший Илюше скормить собаке Жучке кусок хлеба с иголками. Только "выразил основную мысль" и сам Красоткин, стремившийся выдержать Илюшу "на фербанте". Наконец, "говорил лишь в проекте" Иван Карамазов, выражая самые что ни на есть общие идеи, усвоенные, впрочем, самым тщательным образом внимательным Смердяковым.
Эти эпизоды, имеющие сами по себе притчевый характер, восходят к экзистенциальной дидактической матрице:
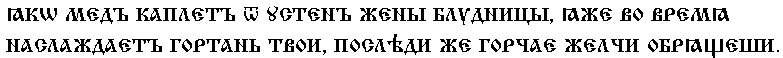
По отношению к ней роман "Братья Карамазовы" сохраняет на своём протяжении рекуррентный параллелизм, одним из коррелятов которого является покушение на цареубийство Дмитрия Каракозова.
О различных соответствиях пары "Дмитрий Каракозов - Дмитрий Карамазов" специально говорить не приходится: они либо более чем явные (фонетический уровень соответствия), либо без особого труда, но с возрастающей энтропией дешифруются на референциальном, риторическом и идеологическом уровнях. При таком кардинальном ономастическом подобии фамилия Красоткин уже не может не иметь определённой семиотической нагрузки. Производная от матронимического прозвища, она отчасти характеризует импульсивность и тщеславие литературного персонажа. Но, если учесть, что в романе "Братья Карамазовы" фамилия Карамазов (мазать, красить в чёрное) имеет амбивалентное значение: чернить что-то, очернить кого-то или делаться чёрным, стать чернецом, - то встреча Коли Красоткина с Алёшей Карамазовым получает религиозно-эстетическую символизацию: встреча горделивого Красоткина с духовным красильщиком Карамазовым. Характерный приём Достоевского состоит, таким образом, не только в том, чтобы обеспечить более или менее прочитываемую связь между этимологическим значением фамилии и моральными качествами своего героя, но и в том, чтобы придать межперсонажным отношениям дополнительную смысловую динамику, включив ономастический уровень романа в интертекстуальную полемику. В деле о покушении на императора Каракозова отстаивал Герцен; в деле о задавленном гусе Красоткина "опять отстоял" Дарданелов. Дать защитнику Красоткина фамилию Дарданелов - в общем-то, всё равно, как если дать ему любую другую фамилию с западноевропейским корнем. "Дарданелов" и "Герцен" сливаются в этой семантике. Однако, как обычно, интенция Достоевского глубже. "Дарданелов" - это, одновременно, и раздел, разлом. Это то же, что и "Раскольников", но только "Дарданелов" - этимологически чужое, иностранное имя. Поэтому и мировоззрение его так отличается от русско-колбасниковского. Он разделён жизнью отсюда, из России, и мировоззрением оттуда, с Запада. Это, конечно, лишний раз подтверждает известное положение о том, что у Достоевского эгоцентрические имена обладают социокультурной предикативностью.
Символизируя в этих именах определённо мировоззрение, Достоевский тем самым обостряет межперсонажные отношения, принуждая осциллировать восприятие между референциальным и символическим значением художественного слова. Тогда, проблема воспитания юноши Красоткина, как и "воспитание юношества" в целом, как бы зависает в зоне бифуркаций между "Колбасниковым" и "Дарданеловым". Алёша Карамазов позволяет осознать Красоткину его положение и стремится соединить его с другим, "прекрасным, святым воспоминанием о хорошем и добром чувстве любви к бедному мальчику", которое, "может быть, одно от великого зла удержит".
VI
Таким образом, приводимые в эпизодах встречи Карамазова - Красоткина интексты активизируют восприятие романа "Братья Карамазовы" сквозь призму перманентной полемики, повышая информационную ёмкость его эстетического восприятия. Повествовательная концентрированность "чужого слова" позволяет на персонажном уровне со всей наглядностью представлять пути рецепции различных идеологических систем и противоречивых философских ценностей. В результате, интертекстуальное разоблачение оказывается направлено к художественному обнажению результирующих воздействий различных "умствований, посягающих на всё для России священное", и указывает на пути возможного их преодоления.
|